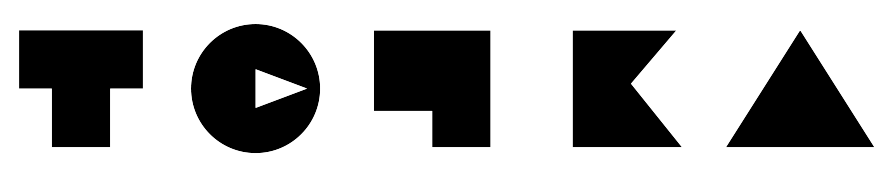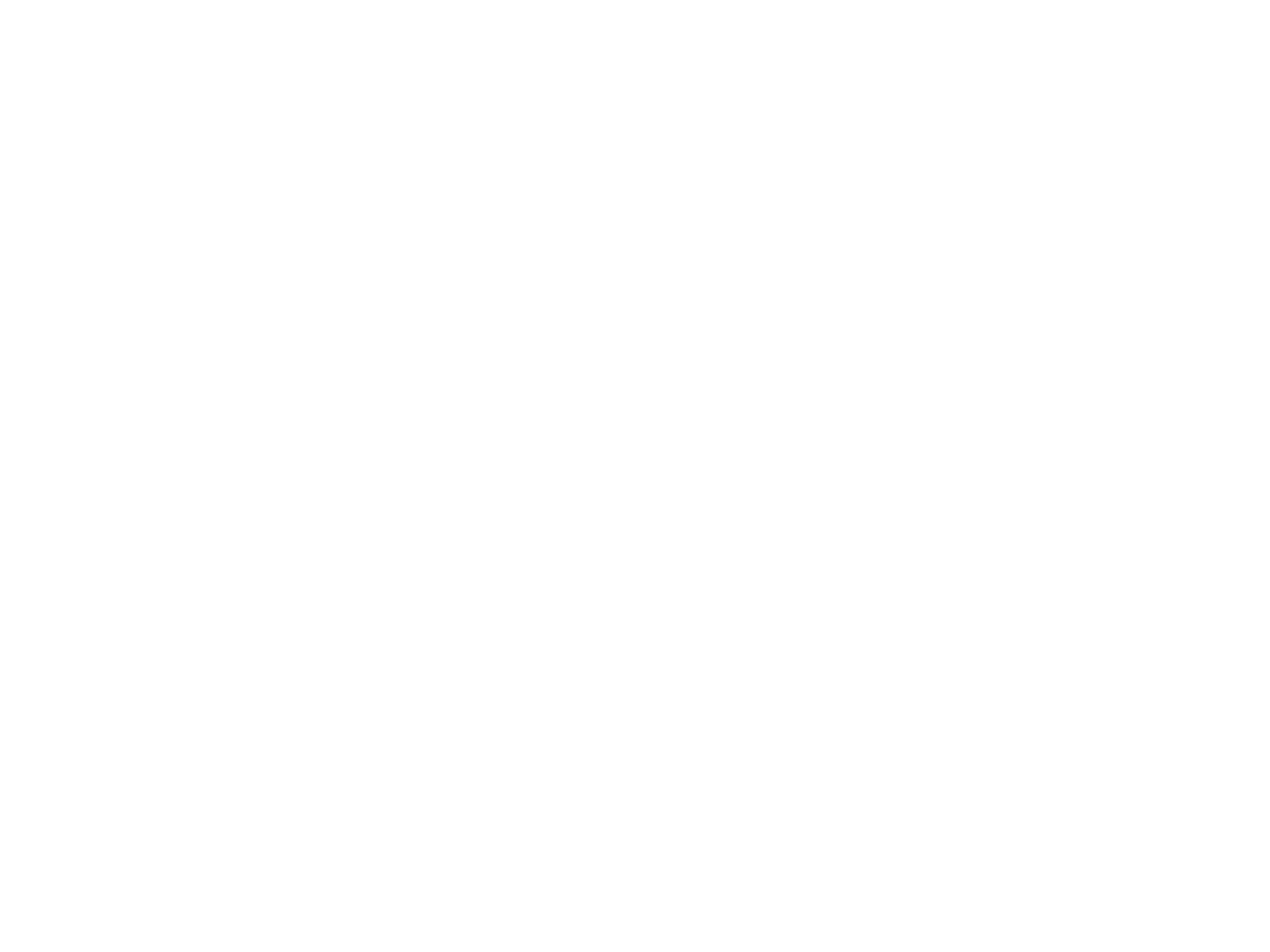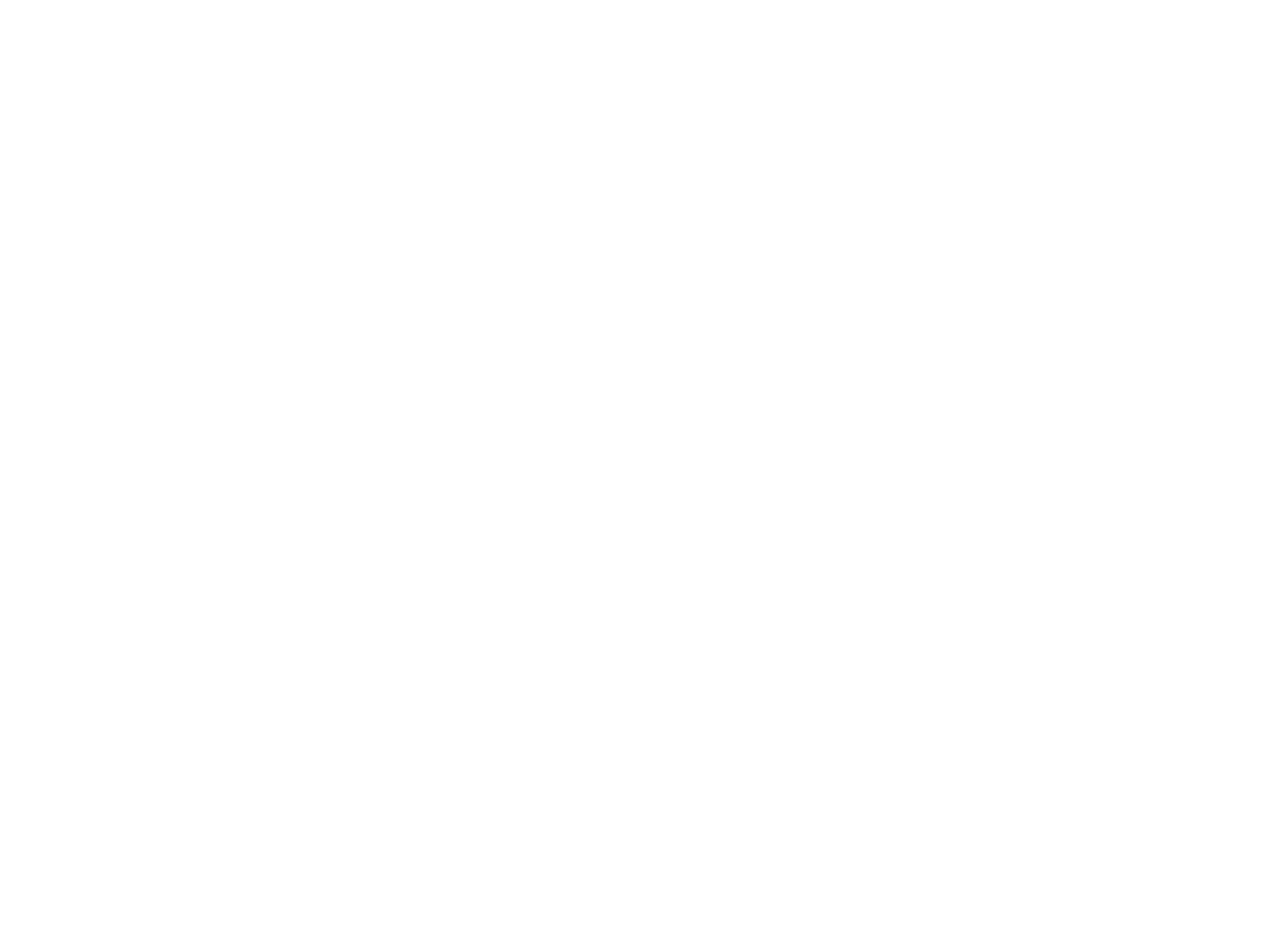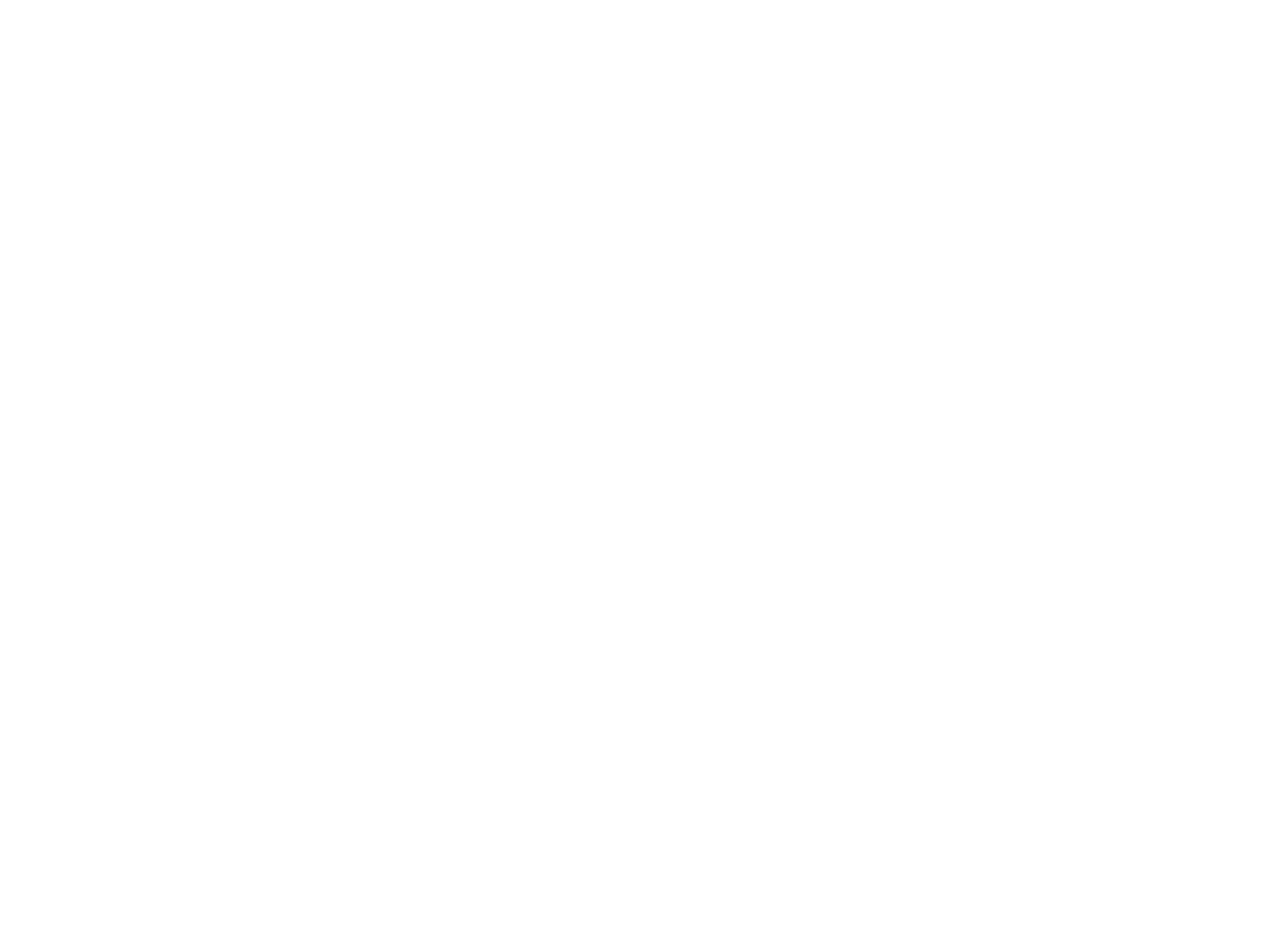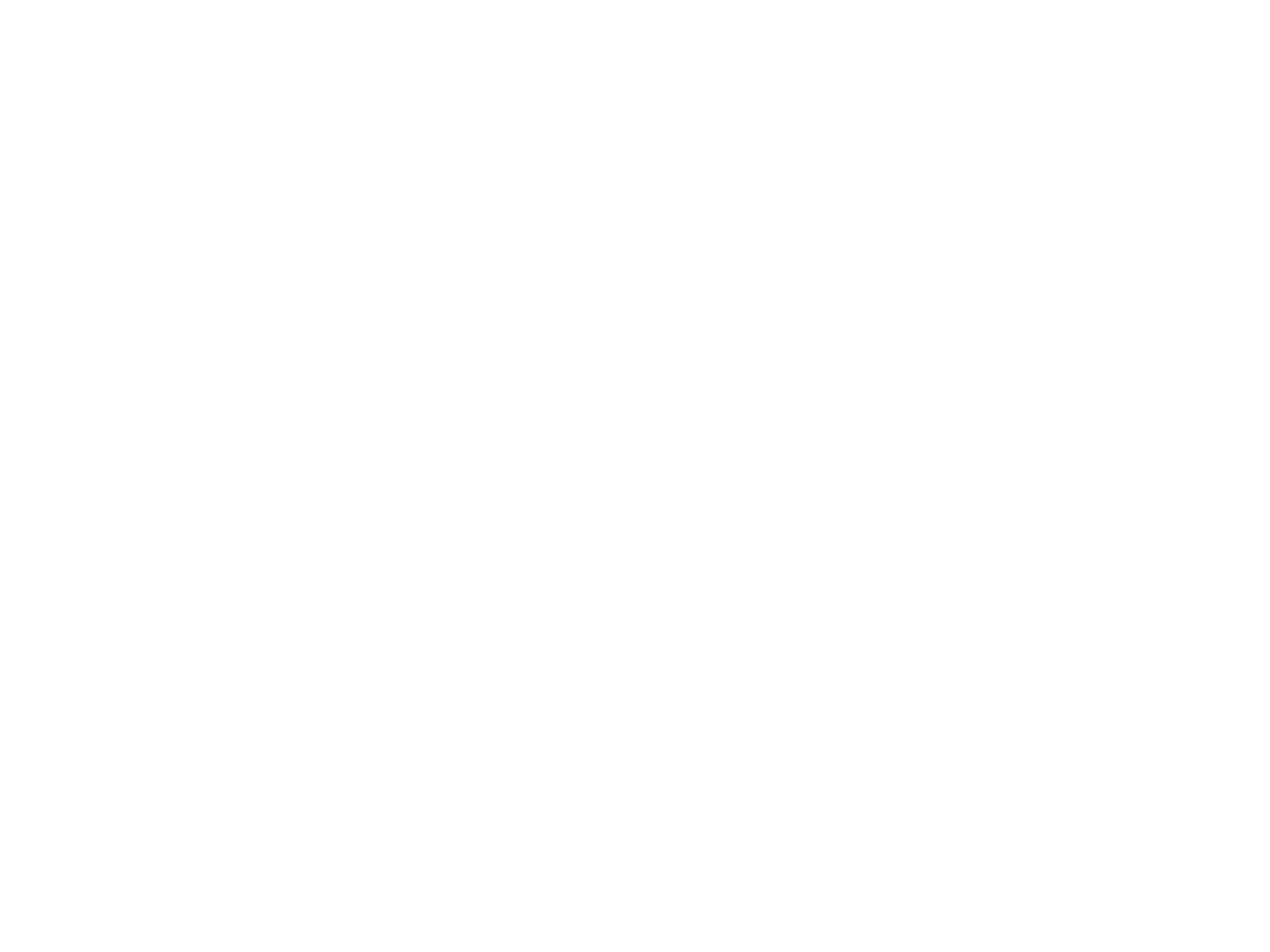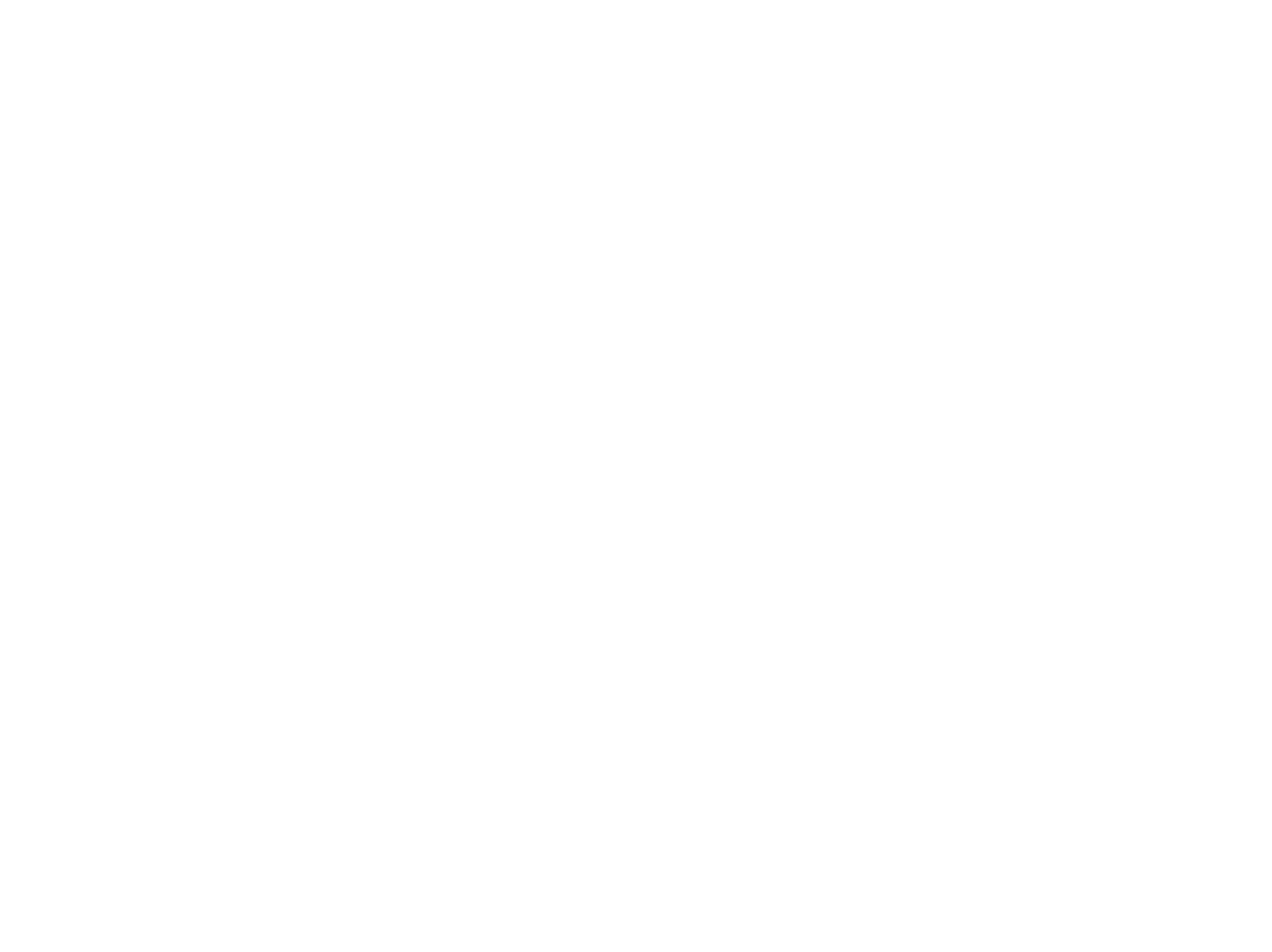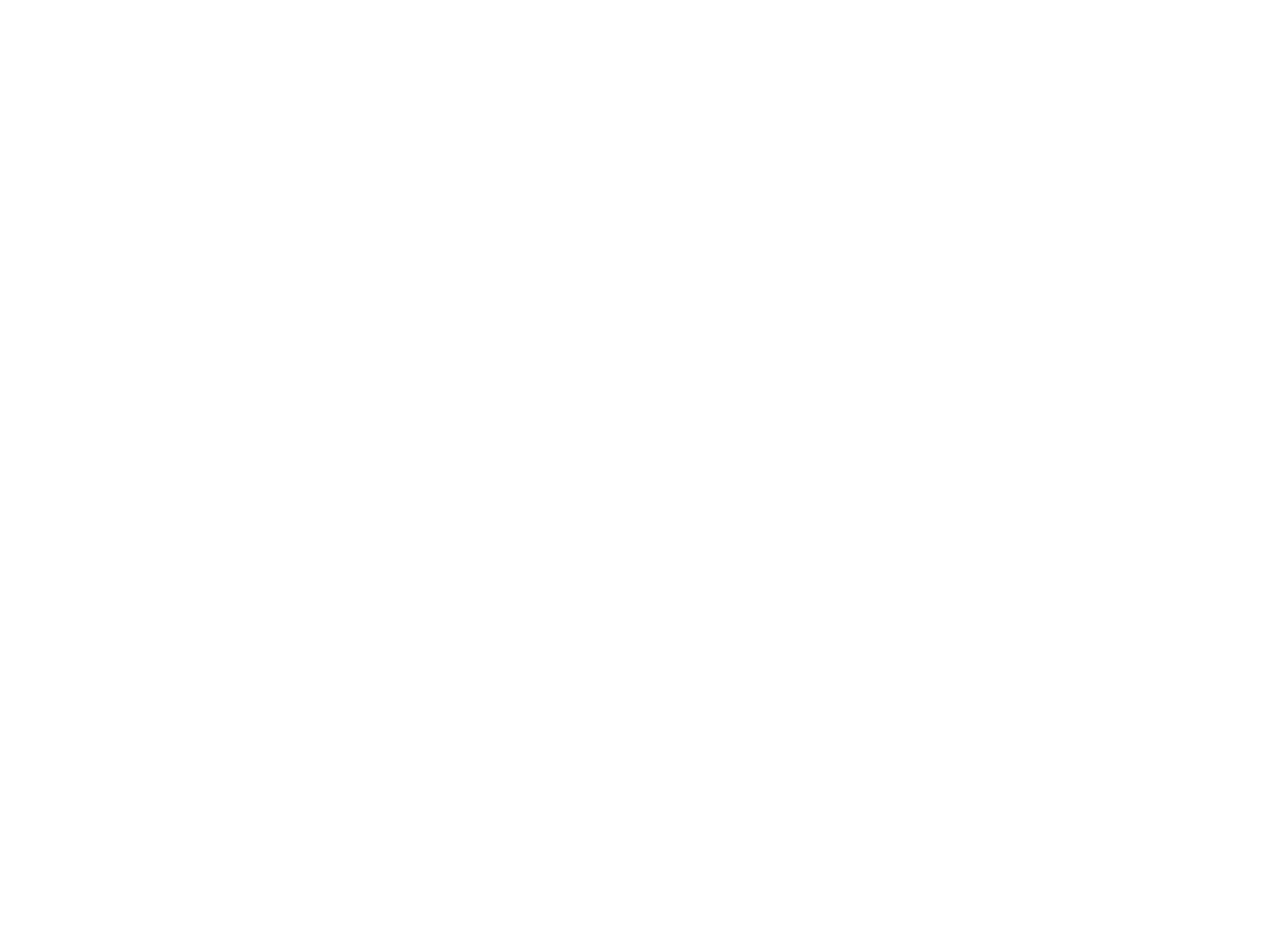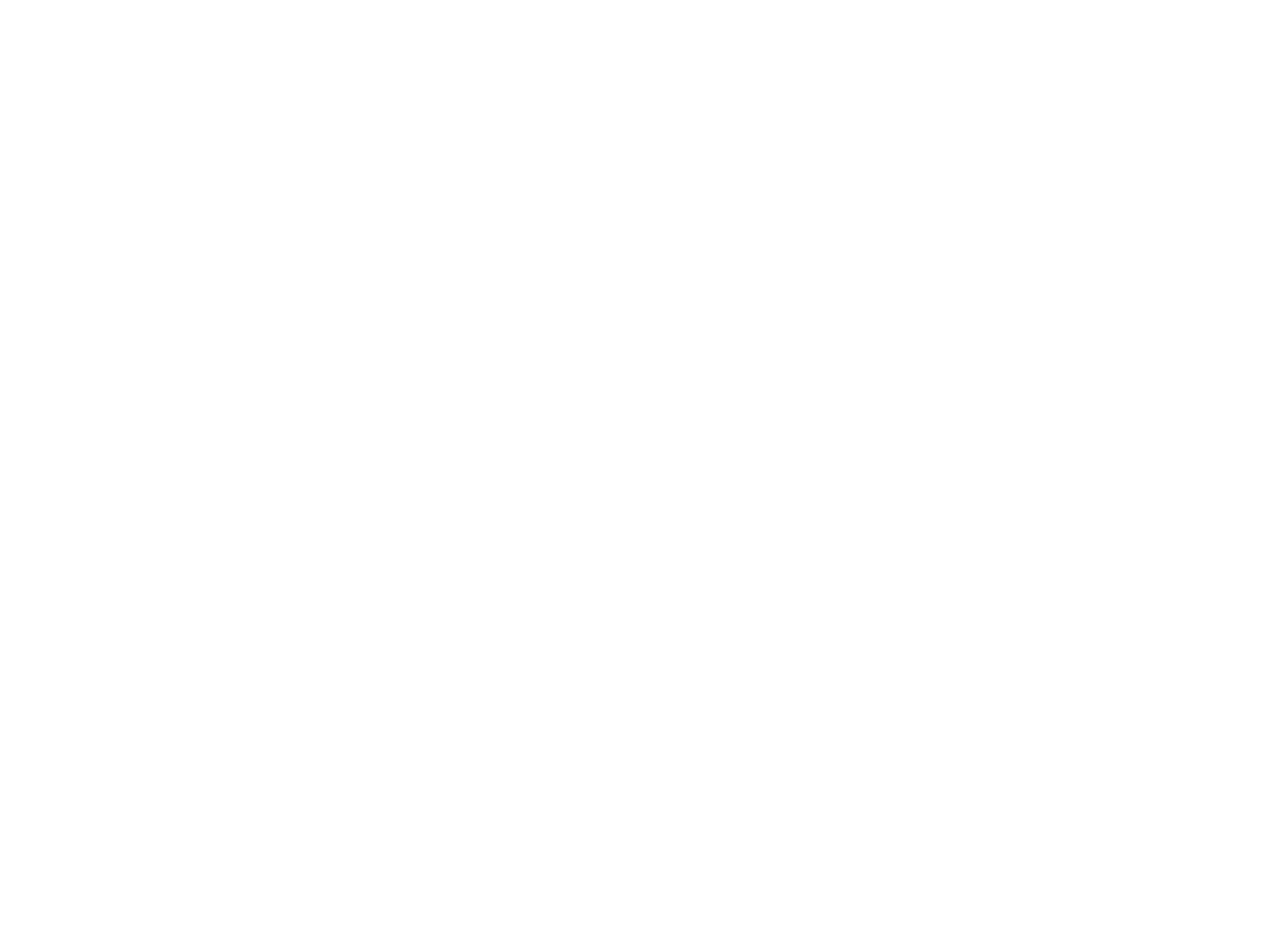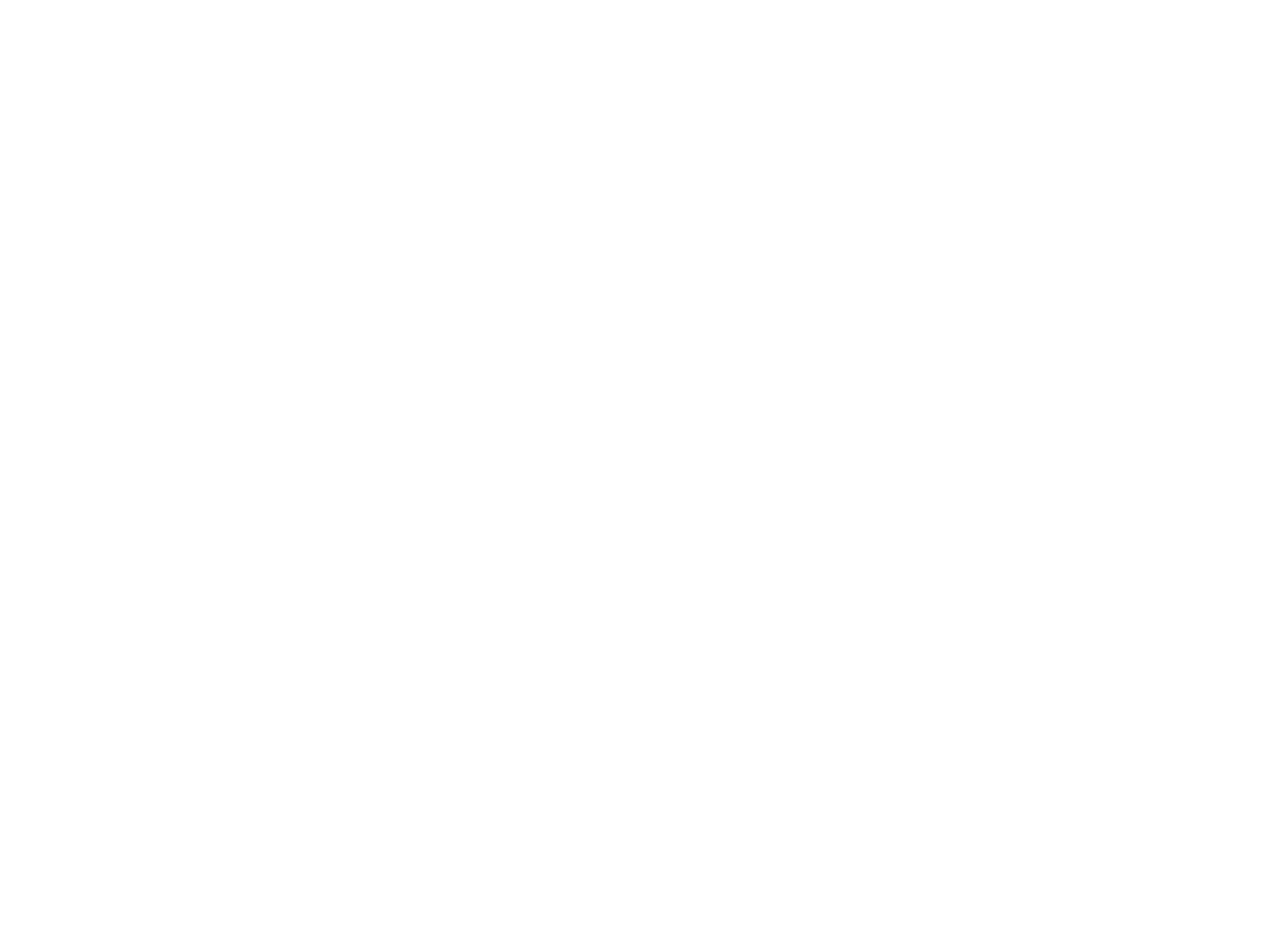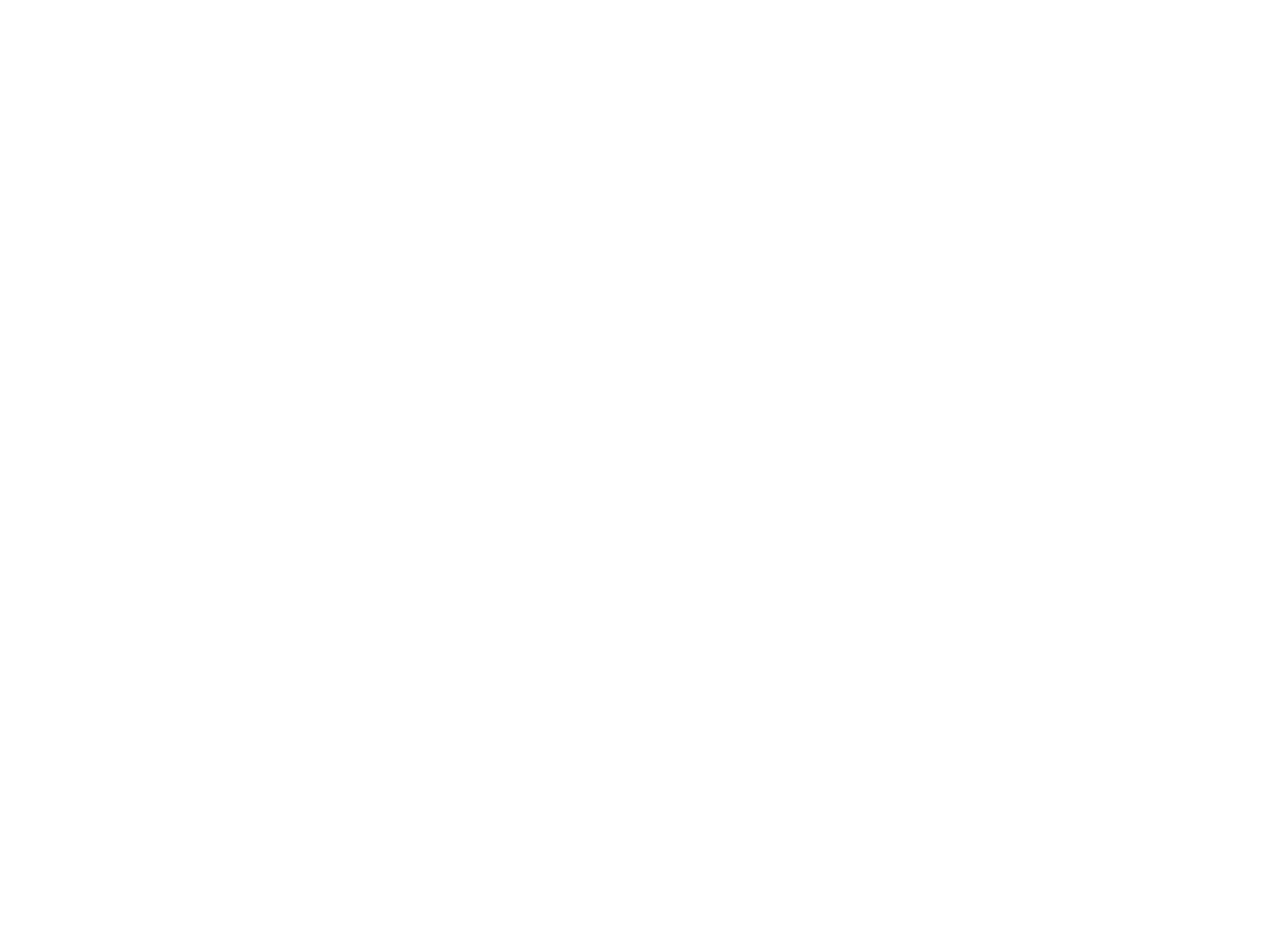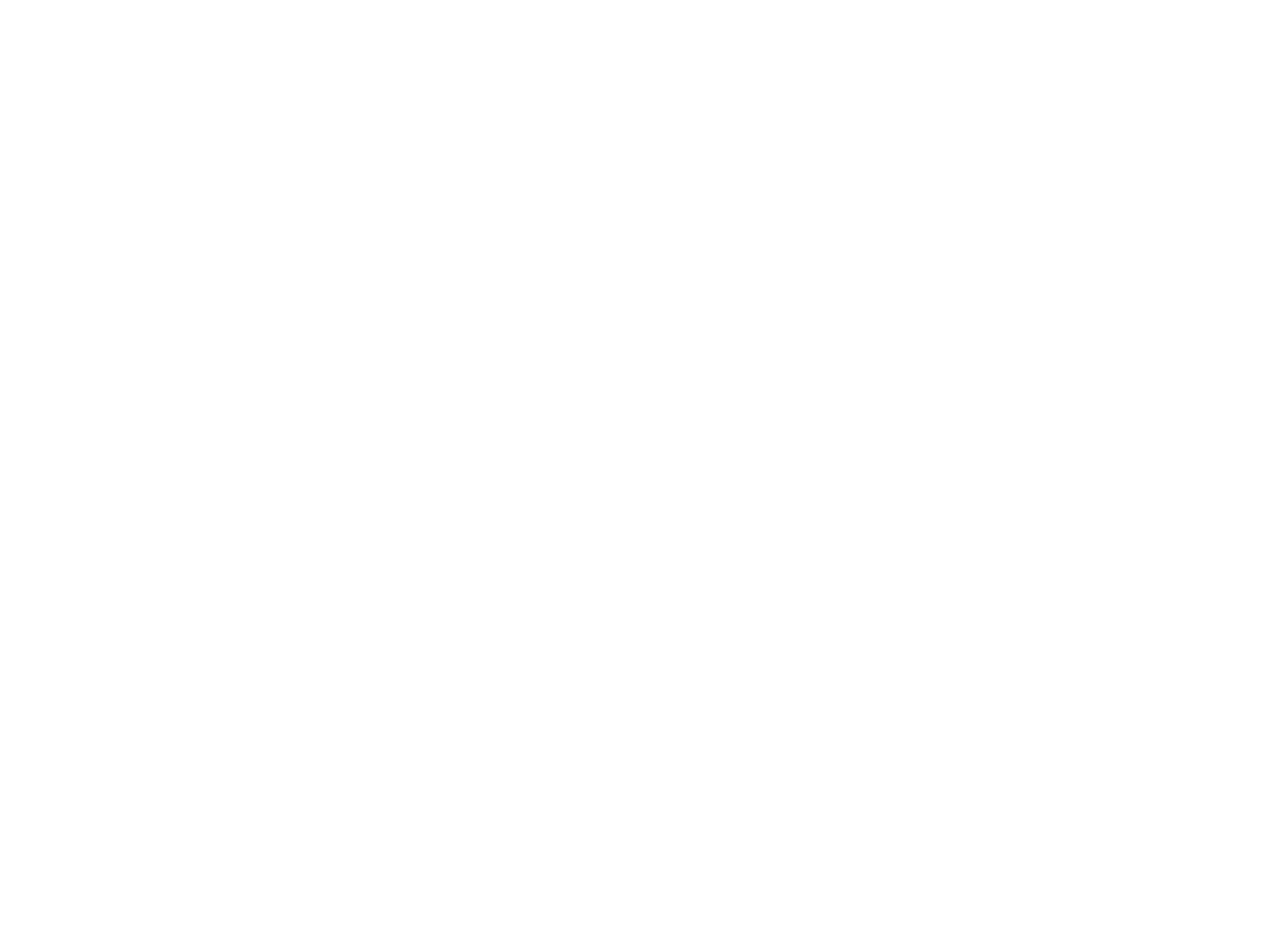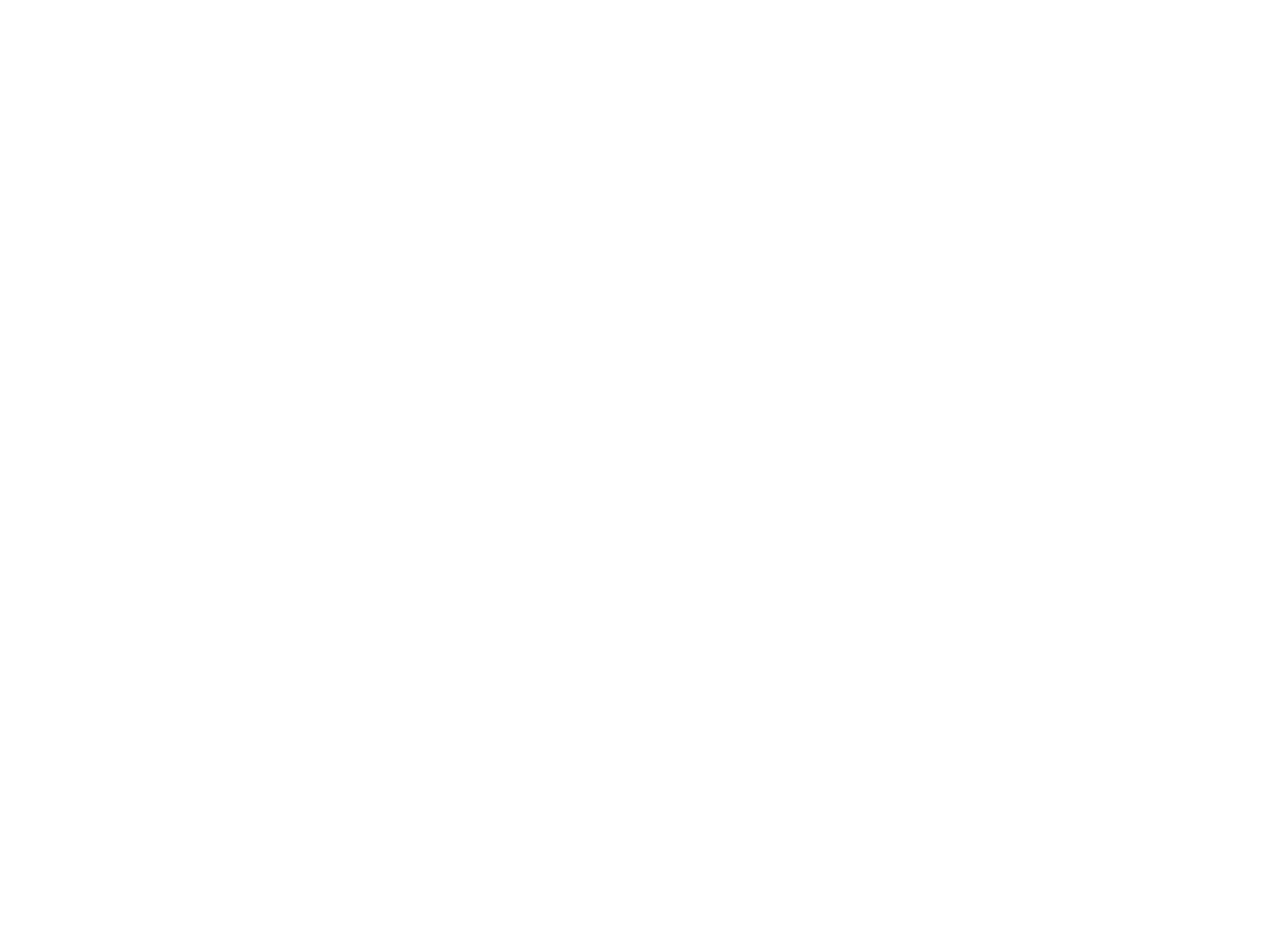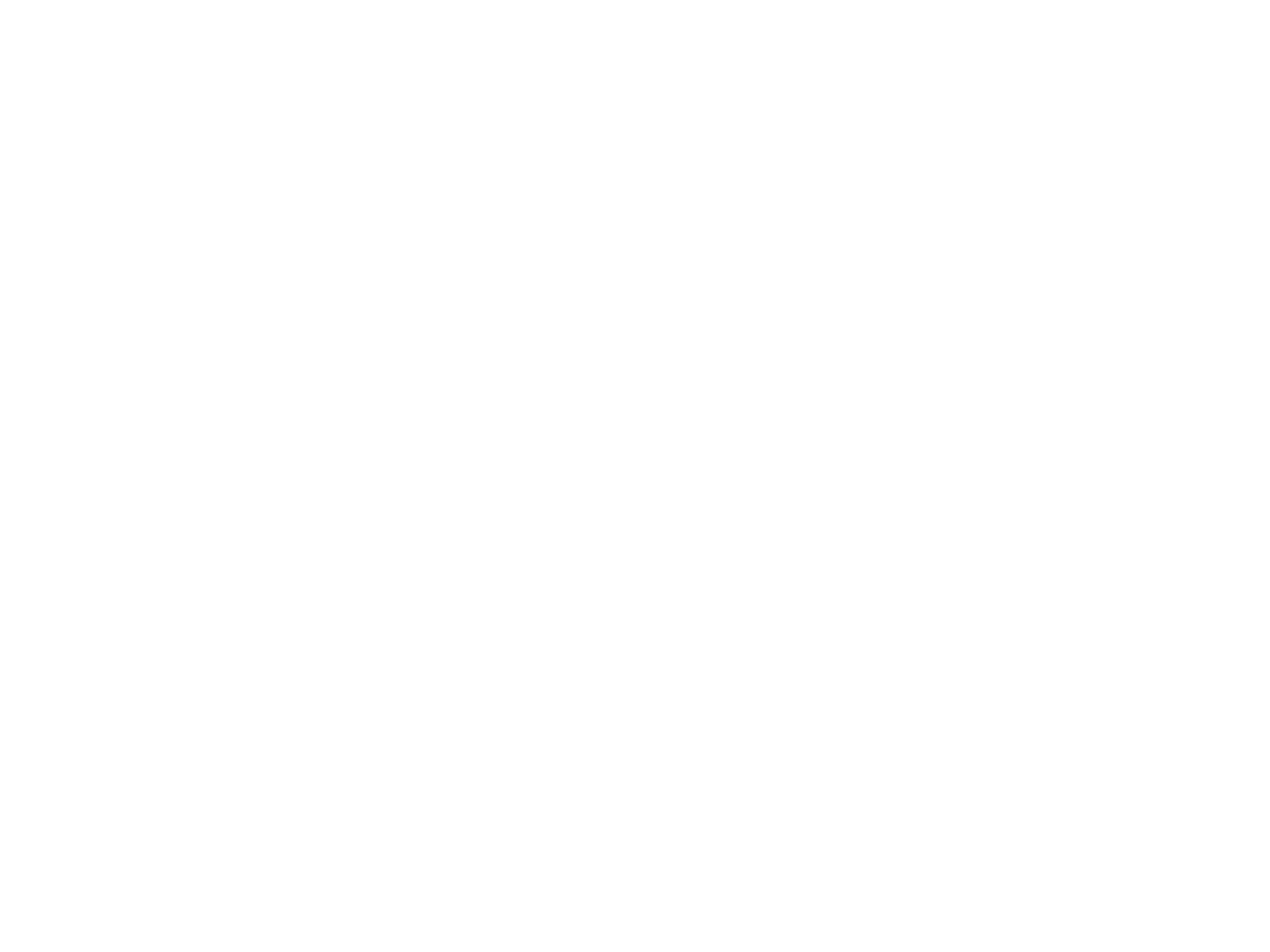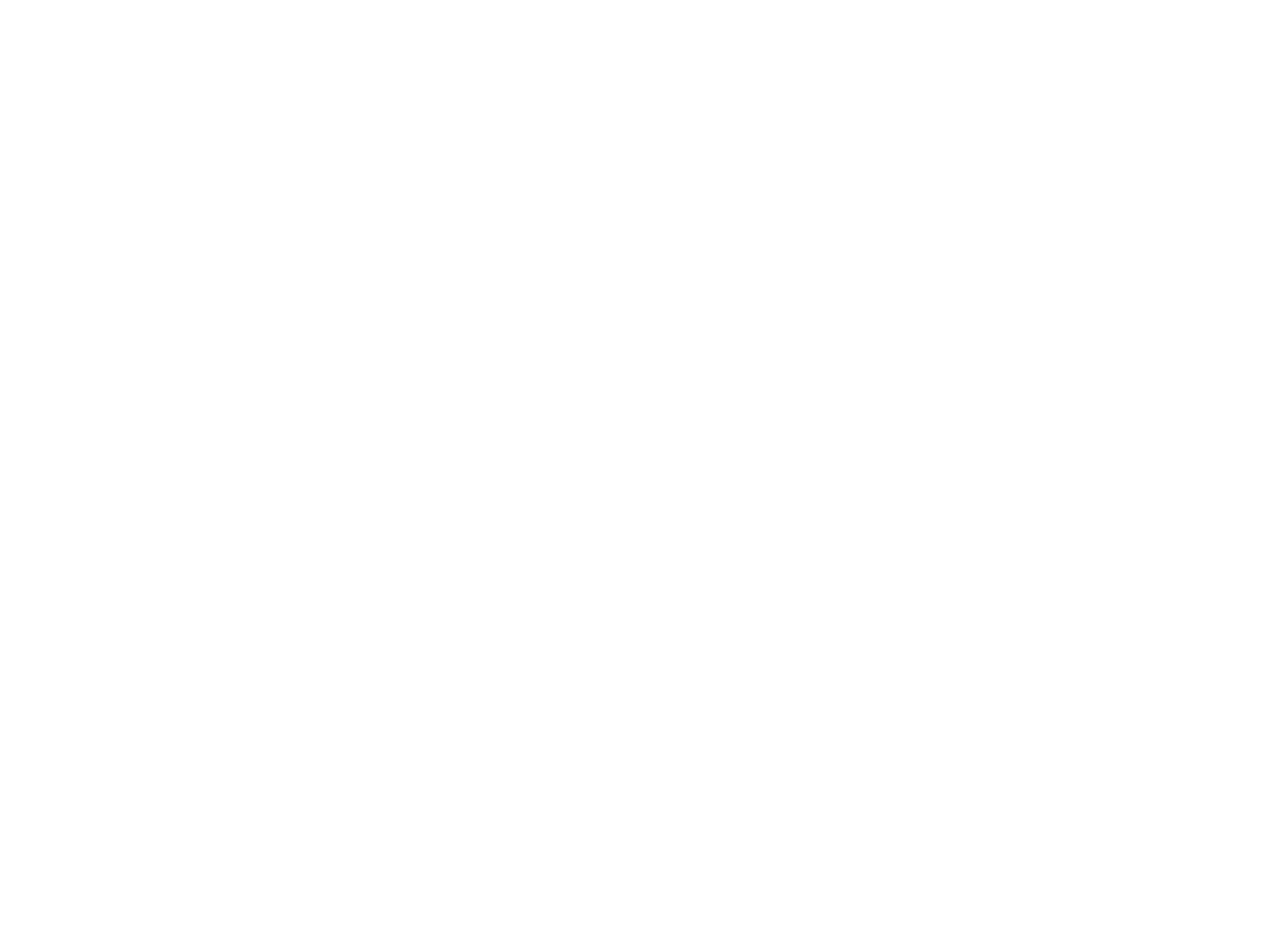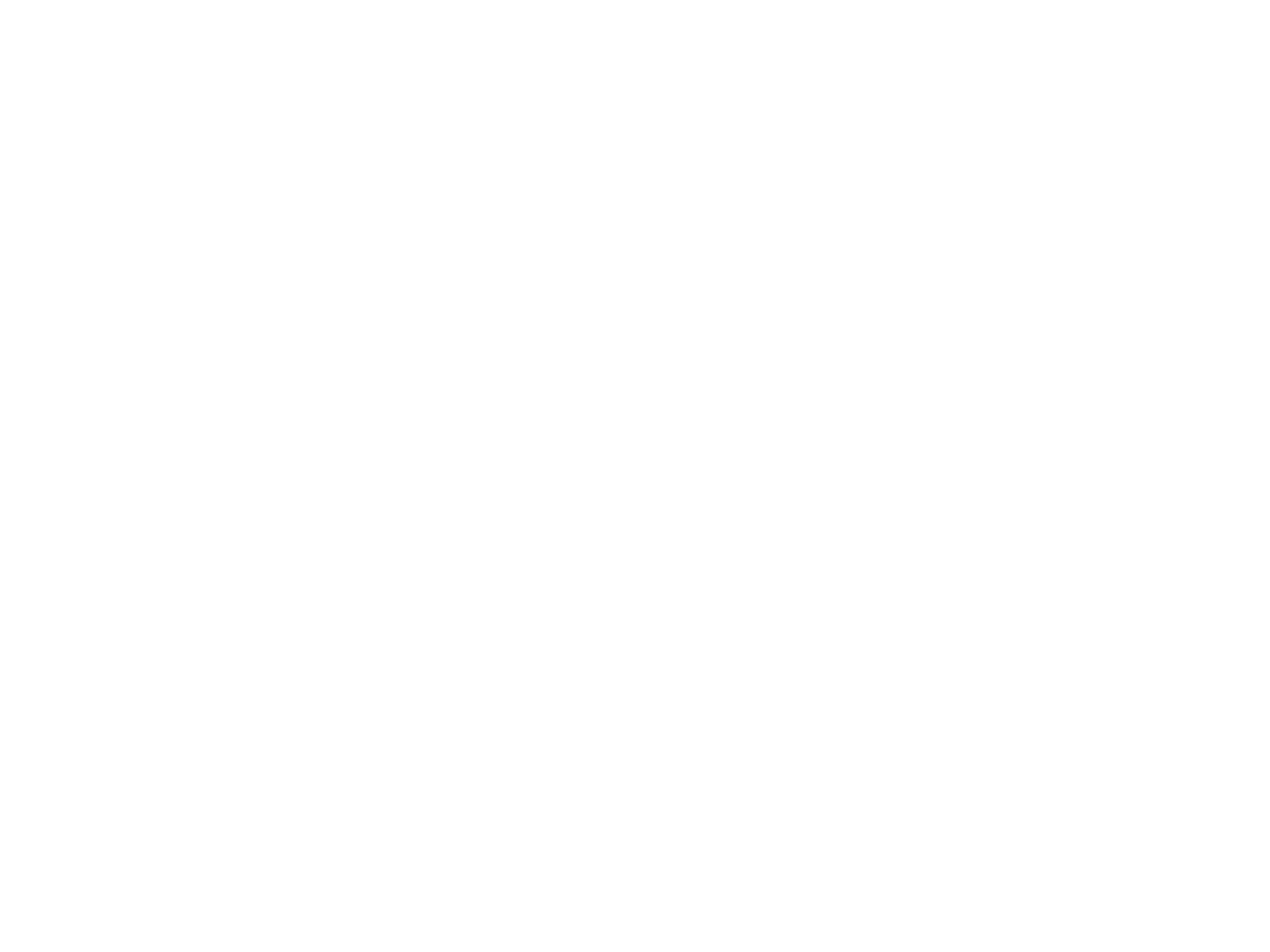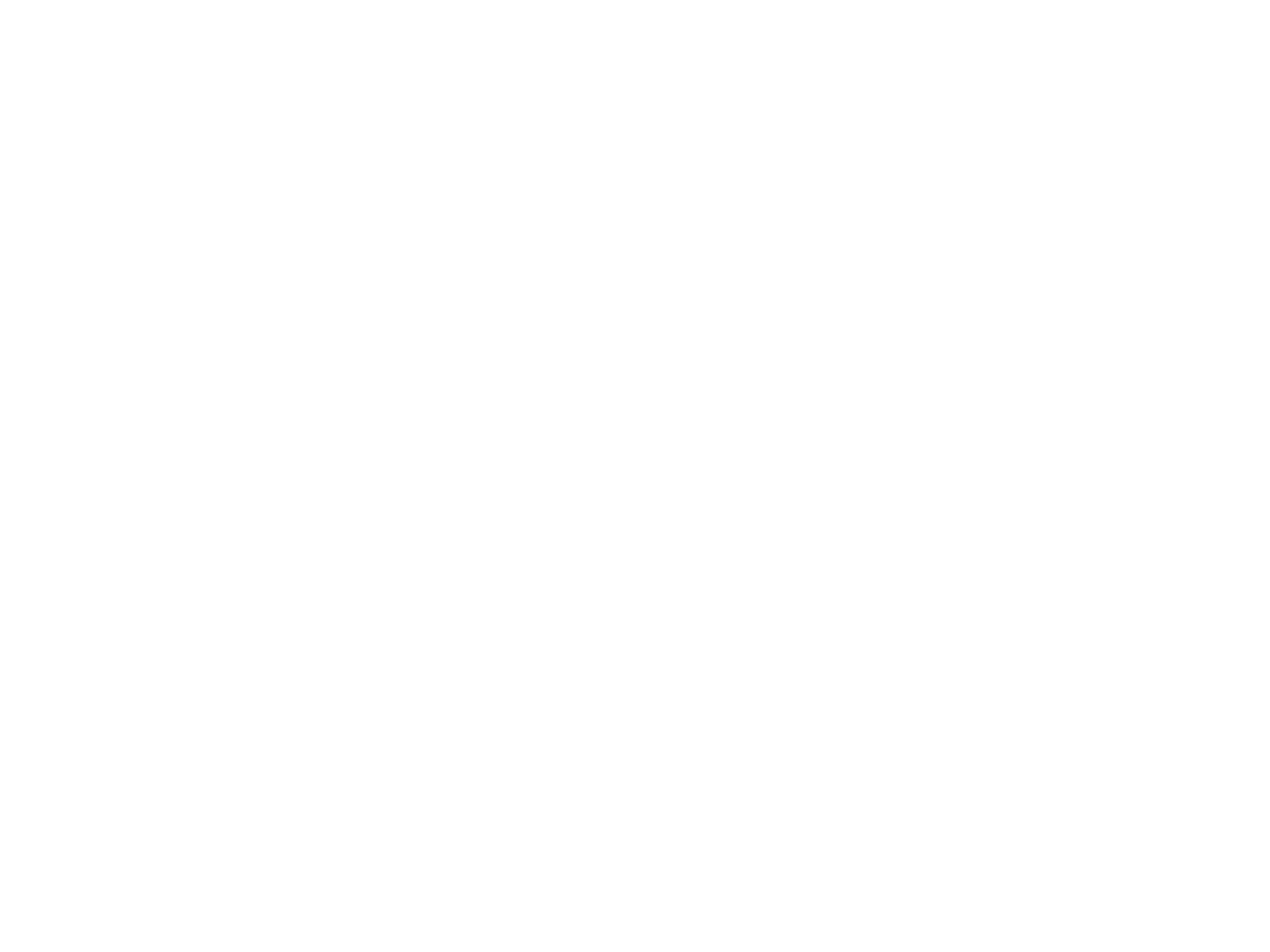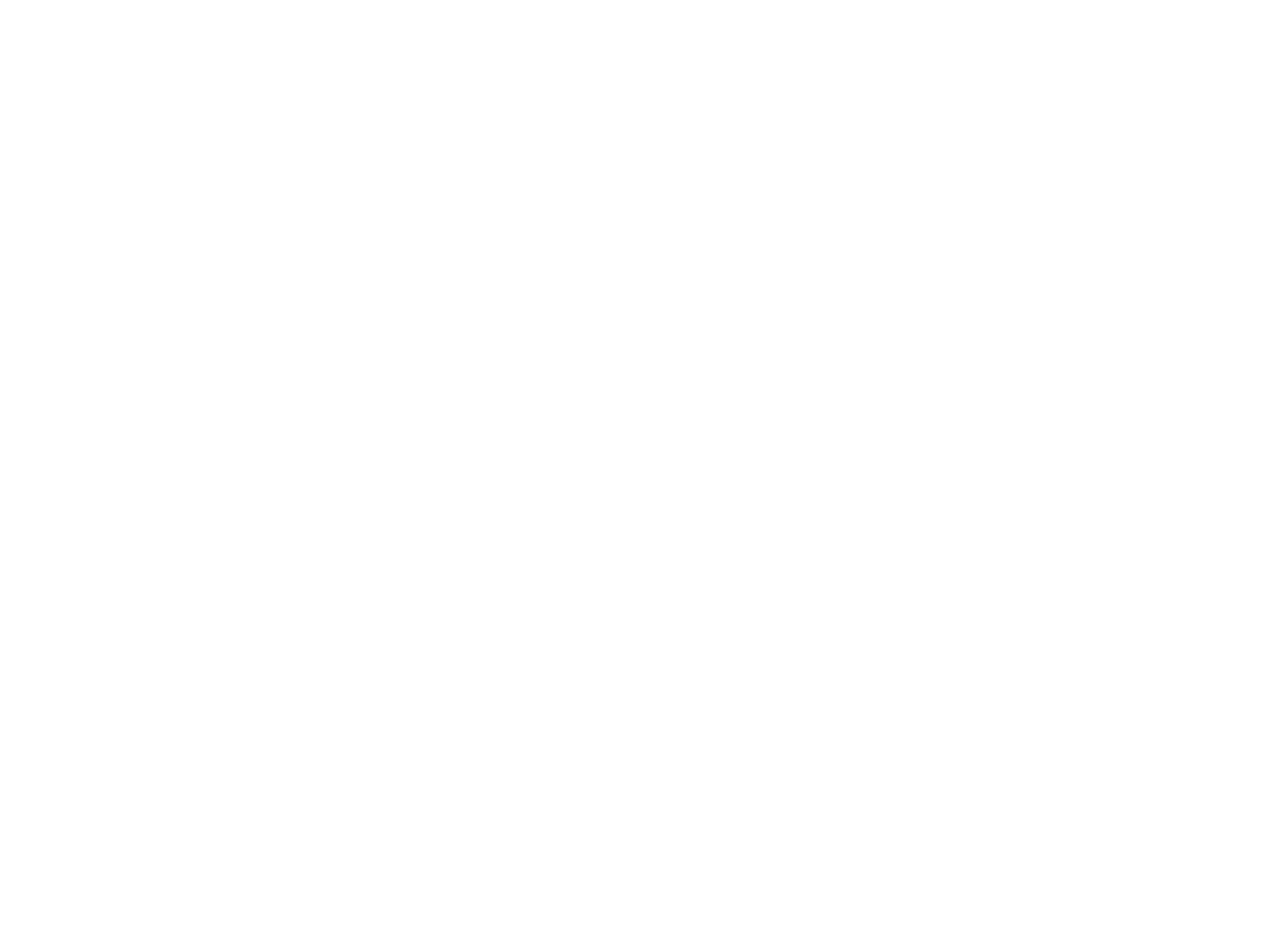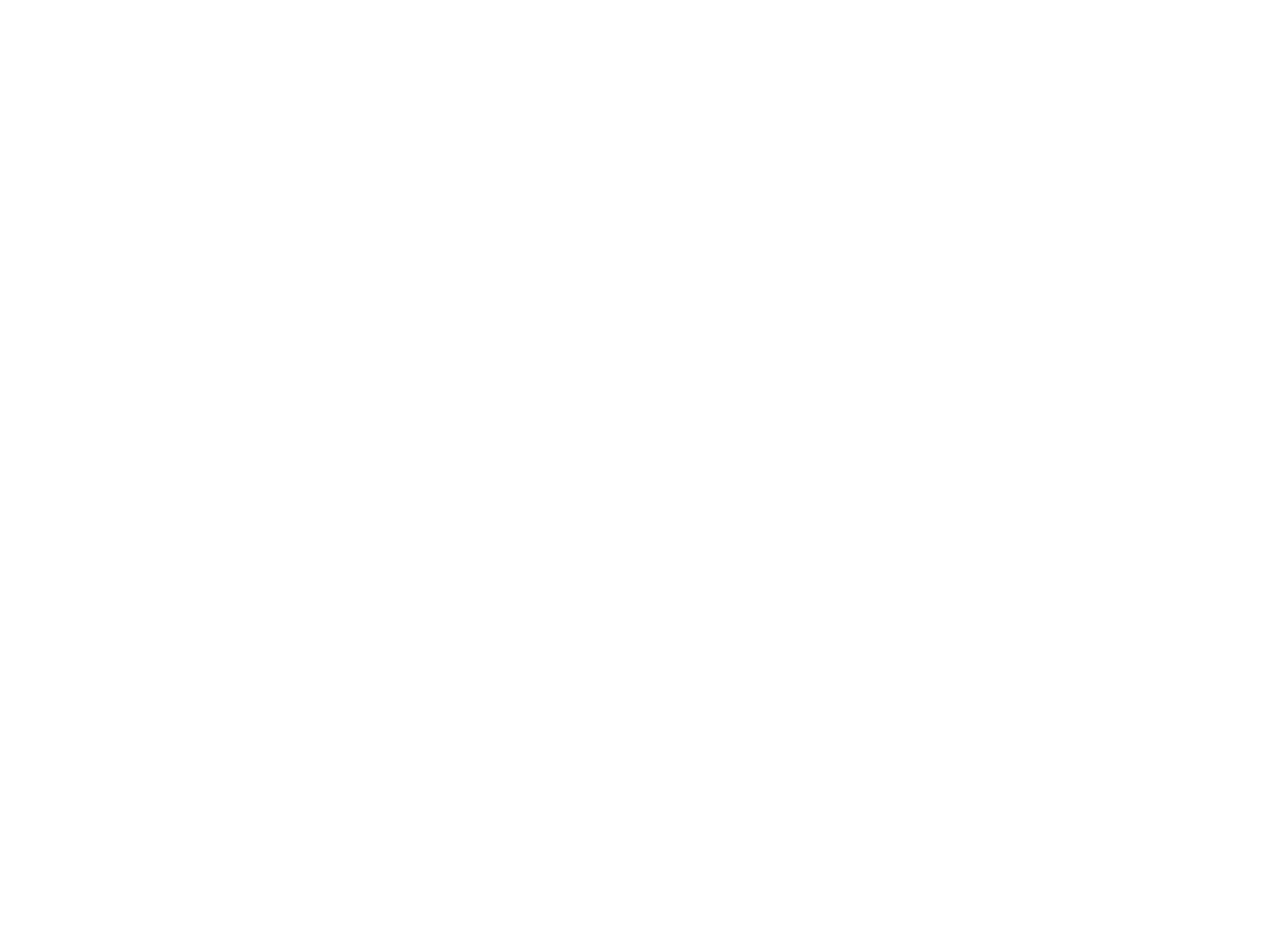Выставка является продолжением проектно-исследовательской лаборатории «Петербургский стиль в архитектуре и дизайне», организованной издательским домом «Балтикум» и Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга весной 2025 года. Один из результатов работы лаборатории – список архитектурных объектов Северной Венеции, оцененных в качестве образцовых экспертами из профильных сфер. «АРХИКАДР-III» продолжил это исследование, но уже при помощи искусства фотографии.
Первым этапом проекта «АРХИКАДР-III. Петербургский дом» стал открытый open call для фотографов и представителей других творческих профессий. Задача участников состояла в том, чтобы не только продемонстрировать свое владение искусством композиции и колористики снимка, но и самостоятельно поразмышлять о специфике и характере архитектуры города на Неве, предложив пять зданий в качестве образцов «петербургского стиля». На первом этапе было подано 30 заявок. В результате экспертный совет выбрал 10 финалистов, среди которых в дальнейшем были распределены 10 объектов для съемки, наиболее популярных среди предложений первого этапа.
В ходе второго этапа финалисты создали серии фотографий «петербургских домов», а также выполнили текстовое задание, поделившись размышлениями о «петербургском стиле» и о предмете своей съемки. Для экспозиции в галерее «Точка» было выбрано по две фотографии из каждой серии: эти снимки образуют диптихи, посвященные тому или иному архитектурному объекту.
Исследовательский проект, который мы ведем совместно с Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, посвящен не только самому городу на Неве, но и тому, как формируется наше о нем представление, из чего состоит образ «четвертого Рима» сегодня. Конкурс «АРХИКАДР-III. Петербургский дом» показал, что в основе актуального «чувства города» лежат даже не хрестоматийные ансамбли эпохи барокко и классицизма, а творения романтических по своему духу эклектики и раннего модерна. Традиционно самым популярным символом города остается Исаакиевский собор Огюста Монферрана. Притом участники настойчиво включали работы ленинградских зодчих в свои выборки, современный же Петербург однозначно воплотился для них в небоскребе на Лахте. С моей точки зрения, это интересный результат, который многое говорит именно о нашей эпохе, о том, как петербуржцы XXI столетия прочитывают собственную идентичность: не напрямую, а в основном опосредованно, через объекты, которые не составляют Петербург per se, но сами невероятно «хотят быть Петербургом».
Владимир Фролов, искусствовед, куратор галереи «Точка»
Петербургский дом
Конечно, среди объектов, вошедших в экспозицию, можно увидеть несколько жилых зданий. Тем не менее, в проекте «дом» трактуется как здание в принципе. Более того – как вместилище петербургской идентичности. В целокупности эти здания формируют единый петербургский «Дом», – в последнем, династическом понимании слова. То есть архитектурное семейство, ведущее свой род от скромного деревянного домика Петра.
Как родственники, принадлежащие к разным поколениям и «ветвям» одного и того же семейного древа, могут быть совершенно непохожими друг на друга, но обладать общими генами, так и здания, формирующие «Петербургский Дом», очень разные: по функции, стилю, возрасту.
На первый взгляд подборка сооружений, выбранных участниками проекта, кажется скорее случайной. Здесь есть иконические постройки: Исаакий и Казанский. Но где, к примеру, Петропавловка, с чьим силуэтом наш город ассоциируется у мировой общественности? Все три доходных дома тоже кажутся выпавшими из колоды эклектики-модерна-неоклассики. С таким же успехом там мог появиться дом Лидваля на Каменноостровском или дом Иофа на Пяти углах. Почему именно «Зингер», а не Елисеевский магазин или универмаг «У Красного моста», в целом понятно: облик здания врезается в память благодаря силуэту с башенкой и расположению на углу Невского проспекта и канала Грибоедова.
Впрочем, с постройками советского периода дела обстоят логичнее. Первый жилой дом Ленсовета за авторством Левинсона и Фомина – бесспорный образец позднего ленинградского конструктивизма, наследующий традиции дореволюционной петербургской архитектуры. А услышав словосочетание «ленинградский модернизм», мы и правда представляем себе приморские «Дома на ножках» и «факел» ЦНИИ РТК.
Про Петербург часто говорят: «Город важнее суммы зданий». Иначе говоря, выдающиеся доминанты не работают без качественной рядовой застройки, призванной связать эти акценты в город-ансамбль. В экспозиции же оказались лишь уникальные здания, тогда как более скромная городская «ткань» ускользнула от внимания фотографов. Да и саму «петербургскость» ряда выбранных зданий можно поставить под сомнение.
В статье «Живописный Петербург» Александр Бенуа призывает художников не только запечатлеть красоту Северной столицы, но и выступить своего рода цензорами, защищающими чистоту образа: «Хотелось бы, чтоб художники полюбили Петербург и, освятив, выдвинув его красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское искажение его, оградили бы его красоту от посягательства грубых невежд, обращающихся с ним с таким невероятным пренебрежением, скорее всего потому только, что не находится протестующего голоса, голоса защиты, голоса восторга».
Многие здания, вошедшие в подборку «петербургских домов», в свое время называли градостроительными ошибками. Даже Исаакиевский собор Монферрана – признанный символ архитектуры Северной столицы. Его ругали за вторжение в «небесную линию» и дразнили «чернильницей» за громоздкую монументальность. «Как все это ординарно, казенно, в общем расположении. Как все это пóшло в отдельных формах. Богато и безвкусно, – приходит в голову каждому зрителю», – писал художественный критик Владимир Стасов. Впрочем, почитаешь Владимира Васильевича – у него всё на свете «ординарно», «безвкусно» и «казенно» (к примеру, в статье о венской Всемирной выставке 1873 года слово «ординарно» употребляется двенадцать раз, «безвкусно» – восемь, а «казенно» – четыре). К порицанию Исаакия присоединился и Карл Брюллов – автор росписи под куполом собора: «Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате… Белый, с золотыми маковками букет к небесам был бы лучше». Тем не менее из сегодняшней перспективы представляется, что массивные сферические купола на западный манер соответствуют характеру «окна в Европу» больше, чем русские луковичные главки.
Спустя полвека критики напали на другое здание – дом компании «Зингер», построенный Павлом Сюзором. Из-за купола с глобусом здание нарушило высотныйрегламент. Кроме того, вопросы вызывало его соседство с Казанским собором: вычурный абрис и многообразие деталей отвлекают внимание от храма. Поэт Григорий Иванов и вовсе называл дом компании «Зингер»«монстром».
Неоднозначная реакция критиков сопровождала и «Дом с башнями» на Архиерейской (сегодня – Льва Толстого) площади. Действительно ли эта «крепость» выражает «гений места» Петербурга? Не лучше ли ей приземлиться куда-нибудь поближе к лондонскому Тауэру? С другой стороны, разве можно представить Петроградскую сторону без этого чуда?
Про еще одно спорное здание и говорить излишне – оно все равно не услышит нас со своей высоты. Может, его зеркальная оболочка – своеобразный «щит», отражающий критику? Нравится нам это или нет, но «Лахта Центр» стал неотъемлемой частью петербургской панорамы.
Получается, что «петербургский дом» – уникальное, новаторское, смелое здание. Архитектурный феномен. Возможно, его приняли не сразу. Или до сих пор продолжают осуждать. Но вопреки (или благодаря) своей скандальной славе, это здание было и остается символом Петербурга. Если вдуматься, похожая судьба – у самого города. «Быть ему пусту» и «Питербурху пустеть будет», – гласят мрачные пророчества, известные еще со времен основания нашего города (первая фраза прозвучала в показаниях царевича Алексея Петровича на следствии в феврале 1718 года, вторая – из уст диакона Петровскойцеркви Святой Троицы в декабре 1722-го). «Петербург построил Сатана», – писал Адам Мицкевич в 1832 году. Тем не менее – оглядитесь по сторонам. Город не просто выстоял, но и стал символом российской культуры.
***
Фраза «приоритет градостроительства над архитектурой», которую также можно часто услышать в адрес Петербурга, означает, что половина эффекта, производимого архитектурной доминантой, достигается благодаря ее расположению в городском контексте. Откуда это здание видно? Как мы к нему подходим? Как оно взаимодействует со своими соседями? Но на снимках мы видим в основном детали, фрагменты, текстуры. С одной стороны, такое внимание к мелочам похвально. Петербургу всегда было свойственно высокое качество архитектуры, проявленное в каждом кронштейне, каждой плиточке. Все эти детали притом умело собраны в цельные «гезамткунстверки». В отсутствие общих планов такая согласованность частностей прослеживается далеко не во всех выбранных зданиях. В экспозиции разрозненные элементы различных построек собираются в этакого монстра Франкенштейна, с куполом Казанского, башенками Розенштейна – Белогруда и зингеровским орлом. Это ли петербургский дом?
С другой стороны, подобная фрагментарность может быть трактована иначе. Петербург – город мистический, с самого начала обладавший свойствами не то миража, не то сновидения. А сны нередко отрывочны и бессвязны. То ты блуждаешь в лабиринте колоннады Казанского, любуясь игрой света в каннелюрах, то пересчитываешь ангелов на барабане Исаакия.
Петербургу свойственно казаться старше, основательнее, серьезнее, чем он есть. Как мальчишка, нацепивший шинель и фуражку старшего брата, Петербург вслед за европейскими городами одевается в барокко, классицизм, ампир… Казанский и Исаакиевский соборы неискушенному зрителю могут показаться современниками собора Святого Петра в Риме. Так и было задумано. А потому выбор аналоговой монохромной фотографии в цифровой век очень подходит для передачи идентичности нашего города.
В фотографиях каждого здания чувствуется свой подход, характерный именно для этой эпохи, этого стиля. Так, сосредоточиться на плитке, снимая именно дом Бака,– тоже логичный шаг, учитывая, какое внимание в последние годы уделяется метлаху. При работе с конструктивистским произведением Левинсона и Фомина применена ракурсная съемка. На одном из кадров Лахта растворяется в синем тумане, словно город сам пытается спрятать непривычное для него стеклянное здание.
Отдельно скажем о снимках Дома городских учреждений. Эклектизм и мифический декор, созданные Лишневским, оказались подходящим материалом для продолжения линии, которая задана петербургской городской фотографией конца XX века. Да и на уровне композиции легко провести параллели с двумя фотографами, во многом сформировавшими современное представление о характере Петербурга. Кадр из окна – характерный прием Бориса Смелова. Таким образомоказывается выявлена и подчеркнута двойственность натуры Петербурга. «Парадная» башенка соседствует с «непарадным» мутным стеклом и потрескавшейся краской. Общее – частное. Нарядное – исподнее. На другом кадре мы смотрим снизу вверх на двор этого дома. Вспоминается кадр Владимира Антощенкова в том же дворе, – правда, снятый фишаем и чуть с другой точки.
Так что же такое «петербургский дом» (во всех перечисленных в начале текста смыслах)? Отвечая на вопрос о «петербургском стиле», авторы работ зачастую использовали отрывочные, нередко взаимоисключающие, образы – так же, как на самих фотографиях.
Соберем их вместе.
Размеренность. Уют. Спокойствие. Броскость. Фриковатость. Дерзость. Камерность. Текстура. Система. Сырость. Тишина. Лирика. Крыши. Дворы. Пауза. Арки. Русты. Сетка улиц. Стройность. Воздушность. Рябь фасадов. Регулярность. Единство стиля. Внимание к контексту. Ощущение течения времени. Сложный колорит. Мрамор. Гранит. Бронза. Строгость. Традиционность. Возвышенность чувств. Творческий поиск. Нахождение вне времени. Ансамблевость. Мифологичность. Цельность. Сочетание архитектурных противоречий, объединенных гением места.
Марина Рейзберг
Попытки дать определение «петербургскому стилю» сродни переводу с одного языка искусства на другой. Архитектура – это объем и пространство, а их словесное описание всегда будет субъективной интерпретацией, которая подобна попытке написать музыку по мотивам картины. Потому вопрос о точных чертах такого стиля вызвал у меня замешательство. Для меня это скорее набор ассоциаций, а не связное рассуждение: теплый свет / камерность / текстура / система / сырость / тишина / лирика / крыши / дворы / пауза.
Архитектурно: арки / русты / сетка улиц / стройность / воздушность / рябь / асадов / регулярность / единство стиля / внимание к контексту.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Несмотря на то что здание – акцентное в застройке, перед ним выдерживается своеобразная пауза в виде парков. Поэтому объект сомасштабен, не выглядит массивным и органично вписан в структуру улицы. А фасадные решения научного центра напоминают надвигающийся на нас корабль и водную рябь.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Для передачи воздушности и паузы в композиции улицы я использовала прием негативного пространства. Мне было важно показать здание не как что-то монументальное, а как приближенное к человеку, поэтому я делала горизонтальные кадры на уровне глаз.
Для меня «петербургский стиль» – это про некую размеренность, уютность и спокойствие, притом броскость, фриковатость и дерзость. Если брать архитектуру, то я нахожу ее также уютной, симметричной, выверенной, ритмичной, величественной, фотогеничной даже в непогоду.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
В башне «Лахта Центра» я вижу сегодняшнее воплощение петербургского стремления к вертикали и к свету. Оно постоянно вступает в диалог с погодой, временем суток и с самим городом.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Я снимал «Лахта Центр» при солнце и в тумане – два состояния, в которых проявляется суть Петербурга. В ясный день башня выглядит как кристалл, а в тумане – растворяется в небе. Через этот контраст я хотел показать изменчивость города и то, как по-разному может выглядеть современный символ Петербурга.
Для меня «петербургский стиль» неразрывно связан с историей и культурой города, это – некое ощущение течения времени, отраженное в облике зданий, улиц, небольших фрагментов среды, окружающей нас, а в архитектуре это, несомненно, сложный колорит и строгий порядок форм, монументальность, контраст богатства декора дворцов и простоты геометрии дворов-колодцев.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Исаакиевский собор – один из самых знаменитых образов, ассоциирующихся с Петербургом, а потому буквально символ «петербургского стиля». Это классический стиль, монументальность, масштаб, скульптурный декор и, естественно, роскошные материалы, такие как мрамор, гранит и бронза: все перечисленное отражает дух эпохи. Нельзя не упомянуть расположение объекта – он находится в самом центре города, являясь, можно сказать, центром архитектурного ансамбля.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Для меня важной задачей было подчеркнуть геометрию, облик Исаакиевского собора в среде, поэтому моим инструментом служила черно-белая пленка. Я верю, что отсутствие цвета помогает сконцентрироваться на образе здания и его архитектурных формах, и потому экспериментировала с композицией, выбором ракурса и наклоном камеры. Кроме того, я стремилась передать некоторую мистическую атмосферу Петербурга в ночной съемке, подчеркнув, как по-иному можно видеть один и тот же объект в разное время суток.
Для меня «петербургский стиль» – это не набор форм или деталей, но особое чувство соразмерности, когда архитектура существует не отдельно, а в ряду, в ансамбле. Она не стремится выделяться. Это – умение быть частью целого, не теряя собственной выразительности. Петербург – город отношений, пауз и соразмерного ритма. Его архитектура держится не на отдельном жесте, а на общем дыхании.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
В ансамбле Новосмоленской набережной я вижу то же качество. Эти здания кажутся строгими и грубыми, но в их протяженности, в ритме окон и опор чувствуются внутренний порядок и почти музыкальная гармония. Даже в брутальной пластике 1970-х есть филигранность, уважение к линии горизонта, умение быть частью целого. Меня особенно привлекает то, что эти здания состоят из повторений и модулей, но в каждом фрагменте есть собственная интонация, собственный жест – как в музыкальной теме, где все зависит от нюанса.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Фотографируя этот ансамбль, я не искала панорамы. Мне было важно поймать фрагмент – момент, когда архитектура перестает быть просто фоном и начинает говорить сама. Через эти фрагменты я пытаюсь передать петербургское ощущение равновесия – когда в одном куске стены можно почувствовать целый город, с его дисциплиной, меланхолией и поэтичностью.
«Петербургский стиль» – строгость и традиционность, возвышенность чувств и творческий поиск, нахождение вне времени.
В архитектуре – соблюдение градостроительных регламентов (строгость), учет контекста окружающего пространства (традиционность), при этом привнесение нового в городскую среду (творческий поиск), долгосрочность решений – ориентация на вечность (нахождение вне времени).
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Храм – традиционный объект, который должен соответствовать определенным, достаточно строгим правилам. Архитектор Андрей Воронихин добавил к своей постройке знаковый и эффектный элемент – колоннаду, формирующую совершенно особенное, уникальное пространство. Притом колоннада четко вписана в градостроительный контекст: портал в ее восточном завершении расположен на оси нечетной стороны набережной канала Грибоедова и как бы вырастает из этой гранитной набережной, а портал западного завершения – на оси, проходящей по Казанской улице (участок от дома 16 до дома 2) до пересечения Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта.
Колоннада, говоря современным языком, создает «вау-эффект» и позволяет получить новые ощущения от взаимодействия с пространством. Благодаря классическому стилю, вдохновленному античностью, и материалу, определяющему лаконичное цветовое решение, создается впечатление, что храм старше, чем он есть на самом деле, что он как будто был всегда.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Прежде всего, мне хотелось передать особое ощущение от нахождения вблизи здания, в сформированном им пространстве. Колоннада оказывает сильное воздействие: колонны, хоть и расположены регулярно, при определенном взгляде создают эффект лабиринта или плотного соснового леса. Когда находишься среди колонн, шум города как будто приглушается, перестает быть заметной окружающая суета. Также мне хотелось исключить современное визуальное загрязнение окружающей городской среды, чтобы создать эффект отрыва от реальности и потери ощущения времени.
«Петербургский стиль» – не про конкретные формы или направления. Он ощущается как нить, пронизывающая каждый угол города и наполняющая особой атмосферой живости, неидеальности, историчности. Город дышит, как человек, – через свои потертости и сколы. Провода оплетают здания, связывая их в единое целое и добавляя ритма, движения, жизни. «Петербургский стиль» – в его честности перед нами: жителями и гостями.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Объект буквально проживает собственную петербургскую жизнь. Возможно, он не идеально отреставрирован и не безупречно чист, но в этом и проявляется его характер. Дом раскрывает свое богатство через архитектурные детали и не стесняется слоя городской повседневности: вывесок, плакатов, проводов и труб. Он знает, что красив в любом случае и что найдутся люди, для которых именно такая искренность станет идеальным обликом.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Я хотела подчеркнуть артефакты жизни здания – и архитектурные, и городские, – показать его выигрышные ракурсы, даже если в них видны следы времени, следы долгого существования дома в городе.
Главной характеристикой «петербургского стиля», по моему мнению, является выраженный визуальный отпечаток времени. До того, как я прошла отбор и увидела предложенные здания, я не задумывалась о «петербургском стиле» и не анализировала «классические» достопримечательности, потому что их значимость казалась мне очевидной. Однако теперь я углубилась в тему, и меня заинтересовали барельефы и скульптуры, которыми оформляют здания в центре Петербурга.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Думаю, важная часть «петербургского стиля» – уместная интеграция современности в архитектурное наследие. Интеграция с уважением и заботой о городе и его жителях. Один из моих кадров рассказывает именно о том, как специальные службы ухаживают за объектом, сделанным в петербургском стиле.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Я хотела обратить внимание зрителя на детали фасада дома компании «Зингер», поэтому в основном делала крупные планы мозаики и скульптур.
Для меня «петербургский стиль» прежде всего связан с душевностью и удивительными контрастами. Ярче всего эти аспекты проявляются в архитектуре. Большинство домов представляют собой не просто жилые и промышленные строения, а целый кладезь визуальных и контекстных деталей, взаимодействующих друг с другом: начиная от локальных человеческих историй, внешних архитектурных особенностей и, возможно, противоречий, заканчивая глобальным историческим и социальным контекстом. Здесь авангардное встречается с консервативным, парадное – с потрескавшимся, амбициозность – с усталостью, черное – с белым.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Первый жилой дом Ленсовета, возведенный для партийной номенклатурной элиты города в 1931–1934 годах, архитектурно является олицетворением угасающей романтики конструктивизма. В фасадах контрастируют и дополняют друг друга строгие черты, свойственные застройке сталинской эпохи, и неожиданные модернистские острые углы, округлые формы и перепады высот. Для меня «петербургский стиль» проявился именно в многочисленных противоречиях и с окружающей средой, и с внутренним содержанием.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
В серии работ я стремился обратить внимание на одновременную простоту и сложность фасадных объемов, геометричность которых нередко создает впечатление супрематического плаката. Подчеркивая исчезающую грань между плоским графическим изображением и объемной архитектурой, я проводил съемку в черно-белой технике с высокой контрастностью.
Для меня «петербургский стиль» не архитектурный канон, а особый способ восприятия города. Это взгляд, который игнорирует парадный фасад и обращается к «шепоту стен». В общем смысле это эстетика, где история говорит не через даты и имена, а через «фактуру» и «шрамы»: трещины, облупившуюся штукатурку, патину и ржавые подтёки. Дом не «стоит» – он «дышит, помнит и рассказывает». Его материальность становится носителем памяти и мистического присутствия, «физически ощутимого» в тенях, отсветах и шелестах.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Дом Бака – квинтэссенция моего понимания «петербургского стиля». Это идеальный объект для исследования «промежутков» и «зазоров»: здание, где живет подлинный дух города, – готовый «текст», написанный «временем, дождем и людьми».
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Мой инструмент – не документальная фиксация, а «взгляд, замечающий, как свет… ложится на облупленный карниз». Я снимал крупным планом «узоры подтеков и трещины на стенах и полу». Эти кадры – визуальные цитаты, посредством них исследуются «маркеры в пространстве», где разрушение предстает как искусство. Я ловил «дыхание влаги», которое «размывает контуры».
Ансамблевость. Мифологичность. Цельность. Сочетание архитектурных противоречий, объединенных гением места.
2. Какие свойства «петербургскости» вы видите в объекте съемки, который вам достался?
Таинственная башня, фиксирующая острый угол перекрестка, возносится над петербургским миражом. Псевдоготическая ратуша ломает линейность проспекта и рождает городскую легенду.
3. Каким образом вы стремились выразить эти свойства через фотографию?
Хочется показать, как сквозь пыль веков здание сохраняет собственное изначальное величие.
Художественное высказывание на популярную для города на Неве тему сопряжено с высокой самокритикой участников — фотографов, рискнувших поучаствовать в этом эксперименте, — и более строгой оценкой полученных работ со стороны экспертов и общественности. Проект «АРХИКАДР-III» отражает широкий исследовательский фокус, личные размышления участников и поиск истинного отражения Петербурга в зеркале современности.
Анастасия Гусева, руководитель Библиотеки и арт-резиденции ШКАФ
- Екатерина Холодновазаместитель генерального директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга
- Анастасия Гусеваруководитель Библиотеки и арт-резиденции ШКАФ
- Владимир Фроловискусствовед, главный редактор журнала «Проект Балтия», куратор архитектурной фотогалереи «Точка»
- Элина Левицкаяискусствовед, хранитель фонда современной архитектурной графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга
- Евгений Лобановдоцент Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров
- Данил Овчаренкокандидат архитектуры, архитектор бюро «Проектная культура»
- Марина Рейзбергфотограф, архитектор, литератор, ответственный редактор журнала «Проект Балтия»
- Алиса Гильфотограф, экспозиционер галереи «Точка»